В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка Эрика Булатова, одного из самых известных русских художников конца ХХ века. Из российских и зарубежных музеев, а также из частных собраний представлено 140 работ, в том числе и картины последних лет, еще не выставлявшиеся в Москве. Художник, которому на днях исполнился 81 год, рассказал «Ленте.ру» о советском космосе, свободе и русском искусстве.
Лента.ру: Вас называют основателем соц-арта наравне с Комаром и Меламидом, иногда вашу живопись приписывают к фотореализму. Как вы относитесь к этим определениям и жанрам?
Эрик Булатов: Со всеми этими жанрами и с другими, в которые меня продолжают записывать, у меня есть много общего и вместе с тем есть принципиальные разногласия. Чтобы меня в какой-то жанр запихнуть, приходится что-то ампутировать. Что касается соц-арта, то это искусство — фактически вариант американского поп-арта, но на другом материале. На меня поп-арт оказал очень сильное влияние. Не могу сказать, что какие-то конкретные художники, нет, но в целом — само включение в пространство искусства того мира, который презирался всячески искусством, не пропускался туда, а в нашей реальной жизни играет очень большую роль, окружает нас ежедневно и постоянно. Художники поп-арта говорили на своем языке, не обращая внимания на эстетические стандарты, которые были приняты тогда как нормативные. И эта их независимость мне очень, очень была по душе.
Отличие, естественно, в том, что советский материал был политическим. Но и поп-арт, и соц-арт рассматривали социальное пространство как единственную реальность, данную нам. То есть мы не знаем, идет ли какая-нибудь война, если в газете об этом не написано, мы не знаем, умер ли кто-то там, если об этом по радио не сообщили, и так далее. То есть важно, чтобы попало событие в эту зону, и тогда оно становится реальностью для нас. И в этом смысле я полностью занимаю противоположную позицию. Я считаю, что социальное пространство как раз ограниченно, имеет свои границы, и весь смысл и задача нашего искусства, смысл нашего существования даже состоит именно в том, чтобы выйти за пределы границ социального пространства.
Свобода, как я ее понимаю, в социальном пространстве невозможна, и вопрос о горизонте, о границе этого пространства стоит постоянно. И этим я занимаюсь. Вот это моя тема, и ни в поп-арте, ни в соц-арте никто с этой стороны к делу не подходил и этими проблемами не занимался. Поэтому естественно, что считать себя художником соц-арта я не могу никак.
Получается, что если поп-арт рассматривал как единственную реальность рекламу, а соц-арт — советскую идеологию, то в ваших картинах сталкиваются идеологическое и мирское?
С первой же картины «Горизонт», где социальный горизонт перекрывает от нашего сознания естественный, эти два начала декларируются и продолжаются все время. "Вход — Входа Нет", "Слава КПСС", конечно, там эти начала в чистом виде. Если бы это был соц-арт, это было бы ироническое какое-то отношение, у меня в картинах его никогда нет.

«Брежнев. Советский космос» (1977)
Музей искусства авангарда
Ваша работа «Брежнев. Советский космос», где генсек изображен на фоне герба СССР, могла бы быть использована в пропаганде совершенно всерьез.
Да, очень трудно зацепиться, где здесь ирония, потому что на самом деле это просто плакат, там ничего не изменено абсолютно. В свое время была просто комическая сцена: был такой у нас идеолог-богослов Шифферс, он играл в то время важную роль. И вот он пришел ко мне в мастерскую, увидел картину "Слава КПСС" и просто стал креститься и сказал: как же это можно по нашему русскому небу написать такие слова? Вот такая была реакция.
Но очевидно, что текст «Слава КПСС» даже не выходит на первый план, а просто вываливается из пространства картины прямо на зрителей. Получается так, что зритель находится в этом идеологическом пространстве, а небо, наоборот, — внутри, а не в картине.
Вы абсолютно точно ее понимаете, все мои усилия как раз были в единственном пункте, на который не обращали внимания: именно в том, что между двумя этими началами, между небом и буквами есть пространство. Это буквы не написаны по небу, между ними и небом разрыв пространства. Тогда никто и не вникал в пространственный характер этой картины, не как на картину на это смотрели, в конце концов, а как…
А как на текст?
Ну, плакат. С одной стороны было известно, что я не выставляюсь, принадлежу к этому андеграунду, а с другой стороны, непонятно почему нарисовал советский плакат. А смысл картины говорит противоположное. Очень тонкая разница. Знаете, как у Шостаковича в Пятой симфонии, марш там веселый. Когда он исполняется, как требуется, с напряжением, то это звучит как праздник, но не свой, а чужой праздник, это враги торжествуют твои. А когда его исполнял Рубинштейн, Шостакович с ужасом слушал и говорил: дурак, он же не понял ничего. Вот такая простая вещь.

«Слава КПСС II» (2003-2005)
Коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных, Москва
Со временем уходит идеологический контекст, который был в голове у каждого человека. Мало того что никто не знает, отчего умер Пушкин, но и понять, что означали лозунги «Слава КПСС», сегодня не каждый сможет. Они теряют идеологическую нагрузку, становятся декоративным элементом и возвращаются в картину?
Отчасти с этим связано объяснение того, что мои картины последнего времени со словами, в которых я использую только кириллицу и почти никогда не использую латинский алфавит, легче воспринимаются иностранцами. Именно потому, что они сразу видят визуальный, пространственный образ. А здесь сразу прочитывают слова и считают, что этого достаточно.
Но ведь вы использовали латиницу в парижских картинах — Liberte-Egalite, New York?
Да, но мало.
Легко ли было после отъезда перестроиться в другую идеологическую, в другую понятийную систему?
Вы знаете, я не уезжал жить куда-то. Я уезжал работать, меня пригласили таким, какой я есть, поэтому мне перестраиваться не надо было. Материал другой там мне предлагала жизнь, но я привык работать именно с тем материалом, который моя жизнь мне дает. Продолжать эксплуатировать советскую тему мне казалось уже нечестно. Но и какой смысл иронизировать над тем, что уже не опасно и не существует? Это было уже не для меня.
«Поезд — поезд» (2007)
Collection Dieter and Si Rosenkranz, Берлин
К работе в детской иллюстрации вы относились серьезно или как к халтуре ради заработка?
Трудный вопрос. Конечно, это была работа ради заработка, и как только появилась возможность зарабатывать своим основным трудом, собственно говоря, мы тут же бросили книги. Поэтому мы с Олегом Васильевым и уехали в Нью-Йорк, что нас именно как художников пригласила галерея. Был смысл рискнуть зарабатывать своим делом, ну и оказалось, что это вполне реально. Мы бросили книжки, но это не значит, что это была такая халтура. Просто для меня по окончании института вопрос был именно в том, что не нужно зависеть от этого государства, вот и все. Я сам не знал еще, каким я буду художником, я вовсе не собирался обязательно быть художником андеграунда или там чего-то. Я просто понимал: то что делается сейчас в официальном искусстве, мне не нравится, этого я делать не хочу, а зарабатывать на жизнь мне каким-то образом надо. И самым лучшим оказалось именно иллюстрирование детских книг. Мы с Олегом Васильевым делали эту работу очень добросовестно.
Эти книжки читали миллионы детей в семидесятых-восьмидесятых. Я хорошо помню и ваши иллюстрации, и картинки Кабакова и Пивоварова. Мне и сейчас кажется, что высшее достижение Ильи Кабакова — это его рисунки для детей.
Да, он прекрасный был иллюстратор, что и говорить, он был единственный из нас профессионал, потому что он получил специальное книжное образование. А мы, когда иллюстрировали сказки, ориентировались на нашу детские воспоминания. Ребенок всегда точно знает, какая сказка настоящая, какая ненастоящая, что там ни наверти. Ребенок всегда знает, какой принц должен быть, какой замок. И я много раз уже слышал, что действительно эти книжки вызывали у детей очень большой интерес.
А как вы работали со взрослыми текстами? Вы были дружны с Всеволодом Некрасовым. Визуальная поэзия больше связана с книгой или с живописью? «Живу — вижу» — ведь некрасовское стихотворение?
Мои картины со стихами Некрасова — это уже не визуальная поэзия. Слова в них — это персонажи, которые выстраивают взаимоотношения в пространстве картины. Это решающий момент: как раз литературности я стараюсь избегать абсолютно. Это принципиальная моя позиция, что художник (с моей точки зрения, я не навязываю ее всем) должен стараться, чтобы его сообщение было выражено визуально. Надо найти визуальный образ, по возможности обходясь без комментариев и каких бы то ни было дополнительных текстов. Я декларирую в своих картинах, что слово — это не только смысл и не только звук, но слово имеет право на визуальный образ. Слово может быть предметом, который отличается от остальных предметов тем, что возникает внутри нашего сознания, в отличие от всех остальных предметов, которые приходят в наше сознание извне.
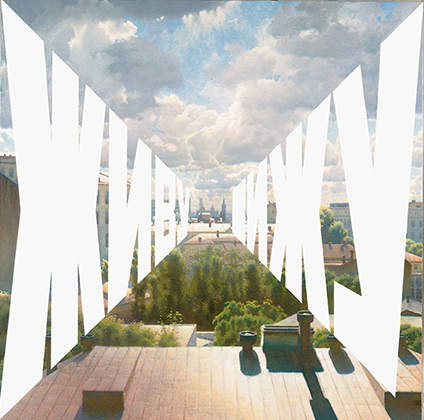
«Живу — вижу II» (1999)
Коллекция Шалвы Бреуса, Москва
Существует разряд искусства, которое категорически не может существовать без аннотаций и поясняющих текстов. Бывает, визуально ничтожная вещь выставляется вместе с целым сочинением, без которого произведение не может существовать. Как вы относитесь к такому жанру «подражания концептуализму»?
Для меня это абсолютно не годится. Я считаю, что это получается нечто среднее между изобразительным искусством и литературой, причем основной акцент все-таки на литературе, потому что без текста вообще не знаешь как смотреть, даже бессмысленно пытаться смотреть.
Литература эта скорее не художественная, а дидактическая.
Вот-вот, я имею в виду именно это. Рядом с этими комментариями само изображение становится иллюстрацией. Иллюстрация — это ради Бога, но тогда уже текст должен быть настоящей литературой. А тут этого все-таки нет, текст не тянет на настоящую литературу. Вот тут, мне кажется, возникает конфликт. Либо делается иллюстрация, но тогда пожалуйста, совершенно другое дело и нужно читать текст, либо, если это картина, то ей не нужны пояснения. А выдавать иллюстрацию за картину не следует, это, мне кажется, уже недобросовестно и не получится все равно.
Я думаю, такой текст занимает вакантное место идеологии, которая задает вектор восприятия работы. Так же, как ваши картины могли кому-то казаться «советскими» при советской власти. А в последнее время в России, примерно как в послереволюционные годы, снова делаются попытки построения нового государственного мифа, новой идеологии. Насколько, на ваш взгляд, идеология отделена от искусства?
Я не соприкасаюсь как-то с этой сферой, что же это за идеология такая возникает, интересно? Вы говорите о возврате к советской или о чем-то совсем новом?
Ничего лучше триады Православие, Самодержавие, Народность пока не придумали. Все это в новых формах, конечно.
Ну так это практически возвращение к советской идеологии. Я очень этого боюсь, я думаю, что это смертоносно для России. Это обязательно повлечет, да и влечет уже, я это вижу, противостояние со всем цивилизованным миром, в конце концов, культурную изоляцию России, а это уже катастрофа. Есть две тенденции в искусстве — я уже не буду говорить о чем-то другом, только об искусстве — две опасные, фальшивые тенденции. Одна — подражание изо всех сил тому, что делается на Западе, а вторая — наоборот, на Западе все сходят с ума, там путь безумия, полное одичание, а мы тут со знаменем культуры стоим единственные, храним. Эта еще хуже. Что касается подражательства — оно бессмысленно потому, что мы на самом деле должны включиться в общечеловеческую культурную работу и быть просто одним из европейских искусств. Европейская музыка не может существовать без русской. И литература. А с изобразительным искусством еще не вполне ясно. Без Шагала и без Малевича, без Кандинского уже трудно представить европейское искусство, но тем не менее, все-таки не признают на Западе русского изобразительного искусства до сих пор.
Не признают?
Нет, нет до сих пор они считают, что его нет.
Видимо, кроме русского авангарда, — его все же приняли?
А русский авангард они понимают как французский десант. Авангард не имеет, они считают, ничего общего с тем, что делалось в России до него, потому что это была немецкая провинция, и ничего не имеет общего с тем, что после него, как будто его не было в русском искусстве никогда. Что-то такое постороннее, как опухоль, возникло, потом исчезло, и все. Вот так они это дело рассматривают. Я много об этом писал и говорил. Это, я считаю, совершенно неверная позиция, полное непонимание того, что собой представляет на самом деле основной характер русского искусства, недооценка того что делалось в нашем XIX веке. Мы должны войти в круг европейских культур, в европейское искусство, но на равных, а для этого мы не должны войти как подражатели, такие никому не нужны. Русское искусство имеет свой характер, свои определенные критерии, с которыми надо считаться. Также как приходится считаться с французскими, немецкими, американскими и так далее. У каждого национального искусства есть свои конструктивные основы, и если их не учитывать, а рассматривать с точки зрения других, то оно всегда превращается в черное, плохое искусство. Это происходит само собой, новое искусство включается в общую культуру, так с американским произошло, но этот процесс идет слишком медленно. Я все надеялся, что мое поколение, после многолетней изоляции, сможет решить этот вопрос, но нет, мы все-таки этого сделать на смогли. Достижения тех художников, которых признали, а таких очень немного, понимаются как личный успех. Так же как Шагала можно было в свое время признавать, совершенно не признавая русского искусства. Поэтому успех отдельных художников остается их успехом, не переносясь на общее русское искусство.
Но в целом после перестройки как раз пошла большая волна заимствований.
Чрезмерная. Это очень опасное и скверное дело. В какой-то мере это и сейчас продолжается, но уже и переваривается постепенно. Можно понять даже, почему это было, в общем-то, это естественно после 70 лет изоляции. Но сейчас более опасная есть тенденция — будто мы лучше всех. Это, конечно, самая опасная ситуация.

«Добро пожаловать» (1973-1974)












